| Тест на советскость от "КП" в Украине" | |||
Ваш индекс Ну, вы в принципе знаете, откуда у современности ноги растут, но вам и тут неплохо, правда?советскости: 60 |
| ||
| Пройти тест! | |||
| Тест на донецкость от "КП" в Украине" | |
Ваш результат: Вы ближе к киевлянам. Местные принимают вас за своего, и ворчат «понаехали тут» не чаще двух раз в неделю. |  |
| Пройти тест! | |
| Проверь, умнее ли ты школьника? Тест от "КП" в Украине" | |||||||||||||||||||
Результат тестирования: | |||||||||||||||||||
| Средний балл: 4 | ||||||||||||||||||
| Пройти тест! | |||||||||||||||||||
| Кто вы из "Алисы в стране чудес". Тест от "КП" в Украине" | |
Ваш результат: Вы Алиса. Именно та Алиса, которая всегда отличалась умением находить сказочные кроличьи норы и готова приключения ради сразиться с самым страшным чудищем. Продолжайте в том же духе, и скоро сможете делать бизнес не только на торговле с Китаем, но и на собственных подвигах. |  |
| Пройти тест! | |
| Итак, по гороскопу индейцев навахо ты... Медведь |
 Медведям везет в добывании денег. Судьба помогает им в самых сложных ситуациях. Это относится не только к финансовым делам, но и к азартным играм. Однако, люди рожденные под этим знаком, как правило обладают настолько трезвым умом, что не рискуют. Они отличаются изысканным вкусом и артистичностью. Медведи, как правило, наделены крепким здоровьем и живут долго и счастливо. Медведям везет в добывании денег. Судьба помогает им в самых сложных ситуациях. Это относится не только к финансовым делам, но и к азартным играм. Однако, люди рожденные под этим знаком, как правило обладают настолько трезвым умом, что не рискуют. Они отличаются изысканным вкусом и артистичностью. Медведи, как правило, наделены крепким здоровьем и живут долго и счастливо. |
| Пройти тест |
| В мире Ехо вам по характеру соответствует: король Гуриг VIII. |
| Король Объединенного королевства, сильнейший маг природы. Знак зодиака: Водолей. От природы Водолеи склонны к некоторой отстраненности, так что им всегда нелегко проявлять свои чувства, хотя в глубине души они относятся к окружающим с теплотой, пока те остаются доброжелателями. Со своими врагами Водолеи резки и холодны. Но при этом им не свойственно желание уничтожить врага, как, например, действуют Лев или Скорпион. Водолеи всеми силами стремятся всего лишь убрать раздражающую персону в сторону, чтобы не мелькала на горизонте и не доставляла неприятностей. Натура Водолея чаще всего беспристрастна. Это великолепные судьи, способные разложить ситуацию по полочкам так, что противоборствующие стороны останутся довольны, а может быть, даже помирятся. |
| Пройти тест |
| По вашим ответам видно что вы... скорее всего стрелец |
| Вы горите яростно но не прогораете, своим огнем вы можете обжечь, а можете и согреть. Вы далеки от интрижек, искренне любите близких, решительны, развит практический ум, но вы чепез чур непостоянны и неусидчевы. |
| Пройти тест |
нну
| Итак... Водолей |
| АЦАМАЗ (20 января - 17 февраля)Этот знак символизирует суд. Это созвездие образует звездный поток из урны Миноса, откуда вытекает благословение и награда или проклятие и наказание, сообразно делам, совершенным в телесном виде. Примитивные урны (приют мертвых христиан), высеченные из камня - суть остатки этой великой астральной религии. Кабалистический знак Водолея означает ноги (ниже колен) Великого Человека Архетипа. Это эмблема телесных сил, изменяющихся, подвижных и передвигающихся. Водолей означает посвящение и не только содержит ритуалы и мистерии посвящения, но и открывает силу всех творений святых и посвященных. Водолей - низшая эманация тригона Воздуха и созвездия Сатурна и Урана. Водолей - знак человека. Водолей есть тип и прототип последней великой цели будущего материального состояния души. Возвращаясь к Евангелию, напомним, что Спаситель, родившийся в Козероге, чтобы избежать встречи с губителем младенцев Крокосом (Сатурном), бежит в Египет. Наступает безмолвие в божественной истории, когда Солнце движется через знак Козерога и часть Водолея. Мы вновь слышим о нем, когда оно - Солнце-Бог, Спаситель, достигло возраста тридцати трех дет, то есть - достигло Водолея. С этого момента начинается период чудес. Человек-Водолей суть повелитель материального мира. Ацамаз нартов - созвездие Водолея в астрономии. Ацамаз представляет совершенного человека, управляющего с помощью свирели силами природы. Ацамаз и воин, и жрец, и производитель. Он превратил лиру Сырдона в свирель, звуки из которой извлекаются дуновением |
| Пройти тест |
| Ваша фея - Принцесса Арил |
Ветра перемен подчиняются Арил. Она помогает Водолею завязывать полезные отношения, заводить приятные знакомства. Арил наделена особым даром развивать ум и творческие способности своих подопечных. С ней тебе светит быстрый и блестящий успех. Принцессе Арил во всем содействуют сильфиды. Это благодаря им у тебя живой и быстрый ум. Чтобы скорее добиться успеха, попроси Арил. «О, прекрасная принцесса, повелительница переменчивых ветров, помоги мне…»  |
| Пройти тест |
сильфиды да
| Твой архетип - Мать или Отец |
Архетип Матери и Отца начинает зарождаться во младенчестве. Вырастая, человек запоминает ласку матери и на подсознательном уровне формирует определенный образ идеальной матери, к которому впоследствии стремится (мужчины ищут женщину, похожую на мать, женщины стараются подражать собственной матери). Архетип Отца является противоположностью архетипу Матери и несет в себе символику защиты, крепости, силы. Некоторые стараются подражать своим отцам, другие же предпочитают обращаться к родителю за помощью. Архетип Отца является противоположностью архетипу Матери и несет в себе символику защиты, крепости, силы. Некоторые стараются подражать своим отцам, другие же предпочитают обращаться к родителю за помощью.  |
| Пройти тест |
вероятно, скорее отца
@музыка: Chris Rea
@настроение: когда я это проходила??..
@темы: tests

















 7/10.
7/10. Чувствовать себя обязанной - не лучшее, что можно испытывать, и я не хотела, чтобы что-либо звучало фальшиво, в форме ли, в обращении.
Чувствовать себя обязанной - не лучшее, что можно испытывать, и я не хотела, чтобы что-либо звучало фальшиво, в форме ли, в обращении.  .
.



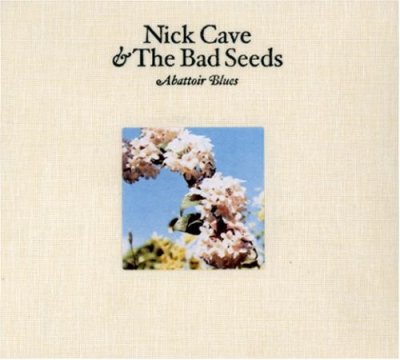




 Не знаю, какую траву курят американцы и где они ее берут, но я однозначно хочу такую же.
Не знаю, какую траву курят американцы и где они ее берут, но я однозначно хочу такую же.  Если от современной экранизации "Алисы" я осталась в восторге, то от "Страны Оз" я просто, простите, обалдела.
Если от современной экранизации "Алисы" я осталась в восторге, то от "Страны Оз" я просто, простите, обалдела. 